Rusbase
PhilTech в действии: как технологии помогают благотворительным фондам и некоммерческим организациям
Кейс «Арифметики добра»
26 июля 2018
26 июля 2018
Фонд «Арифметика добра» был создан в 2014 году бизнесменом Романом Авдеевым. Цель фонда — решение проблемы воспитания и социализации сирот в России. За четыре года работы в России на реализацию программ фонд привлек более 260 млн рублей. У самого Авдеева 23 ребенка, 17 из которых — приемные. Он один из двух человек в мире (второй — 93-летний банкир из Саудовской Аравии), кому принадлежит подобный «рекорд» отцовства.
Два года назад фонд «Арифметика добра» создал свою образовательную платформу, на базе которой обучает детей-сирот. Этот IT-инструмент позволил упростить работу сотрудников и повысить эффективность программ. Корреспондент Rusbase Екатерина Гаранина поговорила с Романом Авдеевым и другими представителями фонда о том, зачем благотворительности новые технологии, и спросила экспертов PhilTech о трендах отрасли в России и в мире.
Два года назад фонд «Арифметика добра» создал свою образовательную платформу, на базе которой обучает детей-сирот. Этот IT-инструмент позволил упростить работу сотрудников и повысить эффективность программ. Корреспондент Rusbase Екатерина Гаранина поговорила с Романом Авдеевым и другими представителями фонда о том, зачем благотворительности новые технологии, и спросила экспертов PhilTech о трендах отрасли в России и в мире.
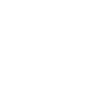
Роман Авдеев, создатель фонда «Арифметика добра», о том, почему его заинтересовала тема сиротства
[На вопрос, почему меня заинтересовала тема сиротства], сложно вот так ответить. Кроме общества, сиротам некому помочь. Меня этот вопрос долго волновал, хотя большую часть жизни я не сталкивался с сиротами. И в 90-е у меня появилась возможность помогать детским домам.
Что поражает, когда первый раз видишь быт детского дома? Необустроенность. Возникает порыв помочь. Но потом быстро произошел перелом: дело не в старых или обновленных стенах, а в самой системе.
Лет 20 назад я часто навещал детские дома, помогал им. Тогда везде была бедность.
Однажды меня попросили помочь оборудовать кухню в детском доме, чтобы воспитанницы смогли научиться готовить и легче адаптироваться к жизненным условиям в будущем. Мы выдали деньги, кухню оборудовали. Я волновался: мне хотелось, чтобы это было не просто доброе дело, а эффективная помощь. Долго просился поговорить с девушками в домашней обстановке. Администрация мялась, но отказать не смогла. Пришли две напуганные девчушки 12 и 14 лет. Надо было как-то начать разговор. Говорю: «Давайте чаю попьем? А сахар где?». Они в ответ: «А что это?». Первая мысль: «Какие люди… Даже сахар у детей украли». На самом деле оказалось, что просто в детском доме сахар сразу мешают в чайник. И все пьют одинаково сладкий чай или какао. Девчушки просто никогда не видели сахар вживую!
Вот тогда я прозрел. Понял, что бесполезно оборудовать кухни. Что такое сахар и как готовить — объяснить можно. Но это все — одно из звеньев цепи.
Что поражает, когда первый раз видишь быт детского дома? Необустроенность. Возникает порыв помочь. Но потом быстро произошел перелом: дело не в старых или обновленных стенах, а в самой системе.
Лет 20 назад я часто навещал детские дома, помогал им. Тогда везде была бедность.
Однажды меня попросили помочь оборудовать кухню в детском доме, чтобы воспитанницы смогли научиться готовить и легче адаптироваться к жизненным условиям в будущем. Мы выдали деньги, кухню оборудовали. Я волновался: мне хотелось, чтобы это было не просто доброе дело, а эффективная помощь. Долго просился поговорить с девушками в домашней обстановке. Администрация мялась, но отказать не смогла. Пришли две напуганные девчушки 12 и 14 лет. Надо было как-то начать разговор. Говорю: «Давайте чаю попьем? А сахар где?». Они в ответ: «А что это?». Первая мысль: «Какие люди… Даже сахар у детей украли». На самом деле оказалось, что просто в детском доме сахар сразу мешают в чайник. И все пьют одинаково сладкий чай или какао. Девчушки просто никогда не видели сахар вживую!
Вот тогда я прозрел. Понял, что бесполезно оборудовать кухни. Что такое сахар и как готовить — объяснить можно. Но это все — одно из звеньев цепи.
Фонд «Арифметика добра» в цифрах
Направления работы
Фонд работает более чем в 30 регионах России по двум основным направлениям: это образование детей-сирот и помощь приемным семьям (всего — шесть программ).
По результатам:
— 267 детей приняты в семьи
— 1028 приемных семей получают поддержку
*Данные актуальны на январь 2018
По результатам:
— 267 детей приняты в семьи
— 1028 приемных семей получают поддержку
*Данные актуальны на январь 2018
Источники пожертвований
74% — физические лица
20% — юридические лица
3% — депозитные вклады
2% — продажа валютных пожертвований
1% — гранты
20% — юридические лица
3% — депозитные вклады
2% — продажа валютных пожертвований
1% — гранты
Расходы
54% — программы по работе с сиротами
19% — программы по работе с приемными семьями
5% — просветительская деятельность
3% — работа с законодательными инициативами
2% — помощь выпускникам детских домов
5% — фандрайзинг
5% — пиар
6% — АХД
19% — программы по работе с приемными семьями
5% — просветительская деятельность
3% — работа с законодательными инициативами
2% — помощь выпускникам детских домов
5% — фандрайзинг
5% — пиар
6% — АХД
В рамках проекта «Шанс» фонд «Арифметика добра» разрабатывает свою образовательную ИТ-платформу. Система помогает подготовить сирот к вступительным экзаменам в учебные заведения, дает доступ к комфортному обучению в любом регионе, открывает возможности для контроля качества и безопасности обучения. Управление процессом эффективно за счет собственной CRM-системы.
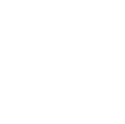
Наиля Новожилова, председатель правления фонда «Арифметика добра», о задачах собственной ИТ-платформы
«Шанс» — образовательная онлайн-программа для сирот, которая стартовала в октябре 2015 года. В рамках программы проходит не только обучение один на один с педагогом, но еще и летний выездной семинар для лучших участников, мотивационные и профориентационные тренинги.
Первые два года мы использовали онлайн-платформу университета «Синергия». Потом, чтобы сделать процесс более функциональным и накапливать данные, мы решили создать свою платформу. Перед этим мы посмотрели, кто вообще работает на рынке онлайн-обучения. Обсудили идею со специалистами. Сама разработка платформы заняла четыре месяца, тестирование — год. Все вместе обошлось в шесть миллионов рублей.
В программе «Шанс», куда входит платформа, участвует 117 педагогов. Благодаря технологиям расписание составляется автоматически. Если занятие отменяется или переносится, преподавателю и ученику приходит смс. В конце месяца считается зарплата педагога — исходя от количества уроков, а данные автоматически переносятся в 1С. Эта и есть та функциональность, которая отменила массу ручного труда и увеличила возможности детей.
Что может программа
В программе «Шанс», куда входит платформа, участвует 117 педагогов. Благодаря технологиям расписание составляется автоматически. Если занятие отменяется или переносится, преподавателю и ученику приходит смс. В конце месяца считается зарплата педагога — исходя от количества уроков, а данные автоматически переносятся в 1С. Эта и есть та функциональность, которая отменила массу ручного труда и увеличила возможности детей.
Что может программа
Образовательная платформа фонда работает в 31 регионе (103 детских дома), 117 преподавателей за три года программы провели 50,9 тыс. уроков для 1,4 тыс. учеников. Данные «Арифметики добра» на май 2018.
Платформа чем-то похожа на сервис SkyEng: здесь есть видеосвязь, чат, интерактивная доска, возможность демонстрировать документы и свой экран. Кроме того, есть внутренняя социальная сеть с профилями преподавателей и учеников, где собрана информация об участниках и расписание уроков. Ученик может оценить качество урока по шкале от 1 до 5 баллов. Все уроки записываются, чтобы их можно было пересмотреть в случае необходимости.
В 2018 на реализацию всей образовательной программы «Шанс» мы потратим 47–50 млн рублей. Содержание платформы, техподдержка обходятся в 64 тысячи рублей в месяц.
В 2018 на реализацию всей образовательной программы «Шанс» мы потратим 47–50 млн рублей. Содержание платформы, техподдержка обходятся в 64 тысячи рублей в месяц.
Rusbase
Как вы мотивируете детей участвовать в программе?
Роман
Авдеев
Авдеев
Участие в программе добровольное. Никаких механизмов заставить ребенка вступить в нее у нас нет. Поэтому личная мотивация — самый сложный вопрос, потому что мотивацию им никто не прививает. Три раза в год в каждый детский дом приезжают тренеры и прокачивают soft skills: умение общаться, договариваться, выходить из стрессовых ситуаций.
Сейчас перед нами стоит вопрос, как сделать программу «Шанс» более эффективной. Во-первых, еще более удобной для детей. Во-вторых, менее затратной для нас. Плюс, она должна развиваться в ногу со временем.
Сейчас перед нами стоит вопрос, как сделать программу «Шанс» более эффективной. Во-первых, еще более удобной для детей. Во-вторых, менее затратной для нас. Плюс, она должна развиваться в ногу со временем.
Наиля Новожилова
В мае у нас было 8% прогулов, в начале года, когда расписание устаканивается, прогулов больше. Мы придумали систему мотивации: за появление на уроке во время дети получают баллы, которые потом могут тратить в партнерских интернет-магазинах. Максимальная сумма поощрения — 500 рублей. В год такие поощрения обходятся в 300 тысяч рублей. Но это значительно меньше, чем издержки от прогулов — 1,4 млн рублей.
Кроме того, мы внедряем профориентацию.
Кроме того, мы внедряем профориентацию.
Результат работы программы за 2015 — 2017 годы среди учеников 9 и 11 классов:
Обычно в вузы и ссузы поступает 1% детей-сирот.
В 2017 году 38% участников программы поступило в вузы, а 58% — в ссузы.
За 2015 — 2017 год в вузы поступило 42 ребенка, а в ссузы 266 детей.
В 2017 году 38% участников программы поступило в вузы, а 58% — в ссузы.
За 2015 — 2017 год в вузы поступило 42 ребенка, а в ссузы 266 детей.
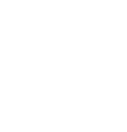
Анастасия Ложкина, директор отдела фандрайзинга «Арифметики добра», о привлечении средств
— Как фонд привлекает средства?
— Мы привлекаем часть денег от компаний в рамках совместных проектов и социально-маркетинговых акций. Сложность работы фонда в том, что нам нужно одновременно формировать спрос на добрые дела и благотворительность. Частные пожертвования составляют большую часть бюджета фонда — значит, благотворительность востребована в обществе.
Но даже выстроив работу фандрайзинга, мы можем обеспечить стабильное обучение приблизительно у 700 детей, а для решения проблемы в масштабах страны надо учить и адаптировать порядка 40 тысяч подростков из детских домов.
Что касается технологий для НКО, то сейчас мы в процессе разработки и адаптации под нас международной CRM для ведения приемных семей и доноров. Мы надеемся, что это выведет управление фондом на другой уровень.
— Мы привлекаем часть денег от компаний в рамках совместных проектов и социально-маркетинговых акций. Сложность работы фонда в том, что нам нужно одновременно формировать спрос на добрые дела и благотворительность. Частные пожертвования составляют большую часть бюджета фонда — значит, благотворительность востребована в обществе.
Но даже выстроив работу фандрайзинга, мы можем обеспечить стабильное обучение приблизительно у 700 детей, а для решения проблемы в масштабах страны надо учить и адаптировать порядка 40 тысяч подростков из детских домов.
Что касается технологий для НКО, то сейчас мы в процессе разработки и адаптации под нас международной CRM для ведения приемных семей и доноров. Мы надеемся, что это выведет управление фондом на другой уровень.
— Что нужно, чтобы технологии филантропии лучше работали?
— Определенная степень зрелости общества. Именно она формирует требования к бизнесу. Знаю примеры, когда плохая социальная репутация уничтожала целые бизнес-империи или, наоборот, высокая социальная ориентированность давала возможность для взлета молодым компаниям. В TОМS shoes на каждую пару ботинок или очков, которые вы покупаете, приходится пара, которую марка отдает нуждающимся. А сейчас компания начала продавать еще и кофейные зерна по той же схеме: каждый заказанный на сайте мешок кофе «превращается» в недельный запас питьевой воды. Ее аудитория — поколение Y, которое считается достаточно трудным для поддержания социальной активности. Сейчас у компании порядка 4 млн подписчиков в Facebook.
— Определенная степень зрелости общества. Именно она формирует требования к бизнесу. Знаю примеры, когда плохая социальная репутация уничтожала целые бизнес-империи или, наоборот, высокая социальная ориентированность давала возможность для взлета молодым компаниям. В TОМS shoes на каждую пару ботинок или очков, которые вы покупаете, приходится пара, которую марка отдает нуждающимся. А сейчас компания начала продавать еще и кофейные зерна по той же схеме: каждый заказанный на сайте мешок кофе «превращается» в недельный запас питьевой воды. Ее аудитория — поколение Y, которое считается достаточно трудным для поддержания социальной активности. Сейчас у компании порядка 4 млн подписчиков в Facebook.
Rusbase
Насколько IT необходимы благотворительным фондам?
Роман
Авдеев
Авдеев
Вопрос эффективности для платформы важен, потому что мы тратим не свои деньги, а благотворителей. IT — инструмент, который обеспечивает эффективность. Скорее, дорого их не применять — вы потратите больше средств и ресурсов. Вы видите наш пример: мы даем такое количество уроков в год, которое проводится в трех образовательных школах. При этом за платформой следят пять человек.
Технологии — это продуктивно. Они позволяют быть открытыми. Как сделать так, чтобы тысяча доноров получали отчеты? Мы же не будем делать рассылку вручную. Человеку иногда нужно узнать, куда конкретно пошли его деньги. Для честного разговора нужна база данных. Цель любого фонда — решать поставленные задачи, а не «собрать побольше денег».
Технологии — это продуктивно. Они позволяют быть открытыми. Как сделать так, чтобы тысяча доноров получали отчеты? Мы же не будем делать рассылку вручную. Человеку иногда нужно узнать, куда конкретно пошли его деньги. Для честного разговора нужна база данных. Цель любого фонда — решать поставленные задачи, а не «собрать побольше денег».
Компании, думающие о других, больше нравятся клиентам
Аналитики Nielsen выявили тенденцию к росту продаж у социально ответственных компаний по сравнению с теми, у которых отсутствует коммуникация в отношении соцпрограмм.
По результатам исследования 2016 года оказалось, что 85% глобальных потребителей и 78% российских обращают внимание на заботу бренда об окружающей среде в момент принятия решения о покупке. А 80% мировых и 61% российских респондентов ответили, что работа бренда над решением социальных проблем общества также является одним из важных факторов.
Потребители наблюдают и за экономическими эффектами деятельности предприятия: 82% участников исследования в мире и 65% в России сказали, что поддержка компанией локальной экономики окажет влияние на их предпочтение бренду, а 84% и 75% соответственно отметили, что обращают внимание на прозрачность и честность бизнеса компании.
По результатам исследования 2016 года оказалось, что 85% глобальных потребителей и 78% российских обращают внимание на заботу бренда об окружающей среде в момент принятия решения о покупке. А 80% мировых и 61% российских респондентов ответили, что работа бренда над решением социальных проблем общества также является одним из важных факторов.
Потребители наблюдают и за экономическими эффектами деятельности предприятия: 82% участников исследования в мире и 65% в России сказали, что поддержка компанией локальной экономики окажет влияние на их предпочтение бренду, а 84% и 75% соответственно отметили, что обращают внимание на прозрачность и честность бизнеса компании.
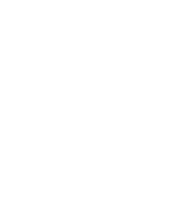
Алена Светушкова, вице-президент «Рыбаков-фонда», о трендах PhilTech и состоянии отрасли в России
— Какие проблемы сейчас решают технологии в благотворительности?
— Несмотря на развитие технологий, остаются нерешенными глобальные проблемы человечества: бедность и голод, доступ к электричеству и чистой воде, здравоохранению и образованию... Мы верим, что их можно решить, создавая компании и проекты нового типа по новой модели, цель которых — не заработок или перераспределение денег, а работа на благо людей и решение системных проблем.
Именно такие инновационные компании и проекты — ядро экосистемы PhilTech, которую развивает «Рыбаков-фонд». Они находят решения глобальных и локальных социальных проблем необычным для традиционных НКО способом, создавая онлайн-платформы, алгоритмы и нейросети, используя новейшие технологии. PhilTech — неизбежный тренд: 94% людей поколения Z убеждено, что бизнес должен решать социальные и экологические проблемы (Исследование Cone Communications «2017 Cone Gen Z CSR Study: How to Speak Z»). Это поколение выросло в интернете, с гаджетами в руках, и привыкло использовать мобильные приложения, онлайн-платформы, социальные сети. У них другая практика благотворительности.
Во всем мире уже есть примеры успешных проектов, которые можно отнести к PhilTech. Это мобильные приложения, веб-платформы, цифровые сервисы и другие масштабируемые IT-решения.
— Как PhilTech развивается в России? Что его тормозит, а что помогает развитию? Какие перспективы есть у этого направления?
— В России через различные конкурсы и гранты государство отдает ряд социальных функций на аутсорс. В 2017 через Фонд президентских грантов НКО получили 6,6 млрд рублей, в этом году объем фонда увеличен до 8 млрд. Среди победителей конкурса есть и выпускники PhilTech-акселератора: например, Руслан Шекуров, автор проекта по созданию сообщества доноров крови DonorSearch, получил 3 млн рублей на доработку своей онлайн-платформы.
Конечно, для развития полноценной филтех-экосистемы в России еще многое требуется сделать: от инструментов поддержки социальных стартапов до обучающих программ для импакт-инвесторов. Мы планируем в течение года запустить цифровую платформу, где инвесторы смогут поддерживать филтех-стартапы.
— Благотворительным фондам интересен PhilTech? Есть ли у них финансовая возможность платить за технологии?
— Сегодня все говорят про цифровую трансформацию бизнеса. Но и некоммерческий сектор тоже в ней нуждается. Это уже очевидно для ведущих мировых фондов: Acumen, Фонда Гейтсов, Фонда Dell, Case Foundation, Skoll и других. Однако это еще не стало мейнстримом.
Lloyd уже несколько лет изучает состояние цифровой трансформации фондов в Великобритании, и в 2017 году оказалось, что у половины некоммерческих организаций нет базовых цифровых навыков. А британская система НКО — очень развитая. Неудивительно, что в России примеры использованием технологий пока совсем редки. Думаю, это связано прежде всего с отсутствием диджитал-навыков у менеджмента и понимания того, как цифровая экономика влияет на организационные и бизнес-модели НКО, на эффективность работы. А она влияет очень сильно: по данным того же Lloyd, НКО, которые внедряют «цифру» в свою деятельность, в десять раз снижают косты, собирают вдвое больше средств, а времени на традиционные операции тратят вдвое меньше. Но помимо менеджмента базовые цифровые навыки должны проникать и в другие направления работы: финансовые транзакции, коммуникации с аудиториями, создание новых продуктов и сервисов.
— Расскажите о вашем PhilTech-акселераторе. Насколько стартаперам интересна эта сфера?
— PhilTech-акселератор — это программа интенсивного развития для команд, решающих социальные проблемы с помощью новых технологий. Мы впервые запустили ее вместе с ВШЭ в прошлом году. Цель акселератора — поддержать начинающих предпринимателей, которые задумали построить бизнес на решении социальных проблем. В обычных бизнес-акселераторах они не находят понимания, но и работать по традиционным моделям НКО они не готовы.
Многие участники нашего акселератора — бывшие работники продвинутых IT-компаний. В какой-то момент они задают себе вопрос: «Насколько полезно для людей то, что я делаю?» И уходят запускать собственные проекты. На стыке их передового технологического опыта и неудовлетворенной потребности в «причинении пользы» зарождаются новые филтех-инициативы. В 2017 году мы собрали около 150 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. За полгода 15 компаний-выпускников получили инвестиции на общую сумму более 30 млн рублей, в основном от частных инвесторов. В начале 2018 года мы получили уже 327 заявок из 14 стран.
— Что нужно делать НКО и разработчикам, чтобы создавать и внедрять как можно больше технологий?
— В России появляются новые инструменты для решения социально значимых проблем и повышения эффективности работы НКО. Например, теплица социальных технологий запустила конструкторы сайтов для НКО «Кандинский», выпускник первого потока PhilTech-акселератора «Волонтим» создает платформу, где НКО могут найти специалистов pro bono. А в финале второго потока, например, мы встречаем стартап Dobrocash, позволяющий фондам получать процент с онлайн-покупок пользователей этого сервиса.
Конечно, это единичные инструменты, а нужен системный подход. Но цифровая трансформация начинается с изменения мышления.
Я с огромным энтузиазмом восприняла концептуальный переход «Добро Mail.ru» от ежегодной конференции к хакатону. Это тоже изменение мышления. Сотрудники НКО работают над практической задачей вместе с программистами, инженерами, дизайнерами. Учатся искать общий язык, ставить задачи разработчикам. Возможно, это не принесет сиюминутных результатов, но точно поможет строить новые связи с сообществами специалистов, без которых НКО не выйдут в цифровую среду.
— Несмотря на развитие технологий, остаются нерешенными глобальные проблемы человечества: бедность и голод, доступ к электричеству и чистой воде, здравоохранению и образованию... Мы верим, что их можно решить, создавая компании и проекты нового типа по новой модели, цель которых — не заработок или перераспределение денег, а работа на благо людей и решение системных проблем.
Именно такие инновационные компании и проекты — ядро экосистемы PhilTech, которую развивает «Рыбаков-фонд». Они находят решения глобальных и локальных социальных проблем необычным для традиционных НКО способом, создавая онлайн-платформы, алгоритмы и нейросети, используя новейшие технологии. PhilTech — неизбежный тренд: 94% людей поколения Z убеждено, что бизнес должен решать социальные и экологические проблемы (Исследование Cone Communications «2017 Cone Gen Z CSR Study: How to Speak Z»). Это поколение выросло в интернете, с гаджетами в руках, и привыкло использовать мобильные приложения, онлайн-платформы, социальные сети. У них другая практика благотворительности.
Во всем мире уже есть примеры успешных проектов, которые можно отнести к PhilTech. Это мобильные приложения, веб-платформы, цифровые сервисы и другие масштабируемые IT-решения.
— Как PhilTech развивается в России? Что его тормозит, а что помогает развитию? Какие перспективы есть у этого направления?
— В России через различные конкурсы и гранты государство отдает ряд социальных функций на аутсорс. В 2017 через Фонд президентских грантов НКО получили 6,6 млрд рублей, в этом году объем фонда увеличен до 8 млрд. Среди победителей конкурса есть и выпускники PhilTech-акселератора: например, Руслан Шекуров, автор проекта по созданию сообщества доноров крови DonorSearch, получил 3 млн рублей на доработку своей онлайн-платформы.
Конечно, для развития полноценной филтех-экосистемы в России еще многое требуется сделать: от инструментов поддержки социальных стартапов до обучающих программ для импакт-инвесторов. Мы планируем в течение года запустить цифровую платформу, где инвесторы смогут поддерживать филтех-стартапы.
— Благотворительным фондам интересен PhilTech? Есть ли у них финансовая возможность платить за технологии?
— Сегодня все говорят про цифровую трансформацию бизнеса. Но и некоммерческий сектор тоже в ней нуждается. Это уже очевидно для ведущих мировых фондов: Acumen, Фонда Гейтсов, Фонда Dell, Case Foundation, Skoll и других. Однако это еще не стало мейнстримом.
Lloyd уже несколько лет изучает состояние цифровой трансформации фондов в Великобритании, и в 2017 году оказалось, что у половины некоммерческих организаций нет базовых цифровых навыков. А британская система НКО — очень развитая. Неудивительно, что в России примеры использованием технологий пока совсем редки. Думаю, это связано прежде всего с отсутствием диджитал-навыков у менеджмента и понимания того, как цифровая экономика влияет на организационные и бизнес-модели НКО, на эффективность работы. А она влияет очень сильно: по данным того же Lloyd, НКО, которые внедряют «цифру» в свою деятельность, в десять раз снижают косты, собирают вдвое больше средств, а времени на традиционные операции тратят вдвое меньше. Но помимо менеджмента базовые цифровые навыки должны проникать и в другие направления работы: финансовые транзакции, коммуникации с аудиториями, создание новых продуктов и сервисов.
— Расскажите о вашем PhilTech-акселераторе. Насколько стартаперам интересна эта сфера?
— PhilTech-акселератор — это программа интенсивного развития для команд, решающих социальные проблемы с помощью новых технологий. Мы впервые запустили ее вместе с ВШЭ в прошлом году. Цель акселератора — поддержать начинающих предпринимателей, которые задумали построить бизнес на решении социальных проблем. В обычных бизнес-акселераторах они не находят понимания, но и работать по традиционным моделям НКО они не готовы.
Многие участники нашего акселератора — бывшие работники продвинутых IT-компаний. В какой-то момент они задают себе вопрос: «Насколько полезно для людей то, что я делаю?» И уходят запускать собственные проекты. На стыке их передового технологического опыта и неудовлетворенной потребности в «причинении пользы» зарождаются новые филтех-инициативы. В 2017 году мы собрали около 150 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. За полгода 15 компаний-выпускников получили инвестиции на общую сумму более 30 млн рублей, в основном от частных инвесторов. В начале 2018 года мы получили уже 327 заявок из 14 стран.
— Что нужно делать НКО и разработчикам, чтобы создавать и внедрять как можно больше технологий?
— В России появляются новые инструменты для решения социально значимых проблем и повышения эффективности работы НКО. Например, теплица социальных технологий запустила конструкторы сайтов для НКО «Кандинский», выпускник первого потока PhilTech-акселератора «Волонтим» создает платформу, где НКО могут найти специалистов pro bono. А в финале второго потока, например, мы встречаем стартап Dobrocash, позволяющий фондам получать процент с онлайн-покупок пользователей этого сервиса.
Конечно, это единичные инструменты, а нужен системный подход. Но цифровая трансформация начинается с изменения мышления.
Я с огромным энтузиазмом восприняла концептуальный переход «Добро Mail.ru» от ежегодной конференции к хакатону. Это тоже изменение мышления. Сотрудники НКО работают над практической задачей вместе с программистами, инженерами, дизайнерами. Учатся искать общий язык, ставить задачи разработчикам. Возможно, это не принесет сиюминутных результатов, но точно поможет строить новые связи с сообществами специалистов, без которых НКО не выйдут в цифровую среду.
Бонус: 20+ коротких кейсов о том, как в мире используются технологии для НКО
Повышают осведомленность
1. Alzheimer's Research UK. Проект «Прогулка по слабоумию»
Alzheimer's Research UK разработал бесплатное виртуальное приложение, чтобы углубить понимание людьми сложностей деменции. Цель — преодолеть стереотипы о том, что деменция влияет только на пожилых людей и что единственным ее симптомом является потеря памяти. Проект был построен под руководством реальных людей с различными формами заболевания и исследует эмоциональные и психологические проблемы, с которыми они сталкиваются, когда пытаются ориентироваться в повседневной среде.
2. Национальное общество аутистов. «Слишком много информации»
Национальное общество аутистов создало виртуальное приложение, чтобы позволить покупателям торгового центра Intu увидеть помещение центра с позиции аутичного ребенка. Приложение воспроизводит опыт сенсорной перегрузки, который часто испытывают люди с расстройствами аутического спектра, когда находятся в оживленном месте, например, в торговом центре.
3. «Гринпис России». «Путешествие в край оленей и нефти»
С помощью виртуальной реальности сообщество Гринпис создало в 2017 году короткометражный социальный фильм «Путешествие в край оленей и нефти» в формате 360 градусов, который демонстрирует последствия нефтяной добычи, разрушающей экосистему Сибири.
4. «Обнаженные сердца». Фильм «История Аркаши»
С помощью виртуальной реальности зрители фильма оказались на инклюзивной детской площадке, в учебном классе и комнате сенсорной интеграции. Цель фильма: показать, как фонд работает в регионах России на примере Нижнего Новгорода.
5. «ОВД-Инфо». Чат-бот в Telegram
Правовой чат-бот, который помогает задержанным. Бот предоставляет интерактивную инструкцию и советует, как вести себя в случае задержания. Советы оформлены в несколько предложений, а к цитатам прикрепляются ссылки на законы. Также в боте есть две кнопки: «протестировать» и «меня задержали».
6. Экология. Чат-бот Open Recycle Bot
Open Recycle Bot на нейронной сети разработали в Петербурге при поддержки «Теплицы». Цель: облегчить раздельный сбор мусора. Пользователь может отправить в чат фото мусора, а бот оперативно подскажет возможность переработки продукта и ближайший пункт приема вторсырья.
8. Royal Trinity Hospice. Виртуальный тур по хоспису
Старейший хоспис Англии вместе с Flix Films сделал виртуальный тур, чтобы познакомить пациентов и их семьи с реальной обстановкой в медучреждении. Цель тура — показать аудитории, что жизнь здесь может быть комфортной. Это не первый совместный опыт работы хосписа и компании: ранее они запустили виртуальные туры по местам, где не успели побывать пациенты, например — на сафари или в Диснейленде.
Alzheimer's Research UK разработал бесплатное виртуальное приложение, чтобы углубить понимание людьми сложностей деменции. Цель — преодолеть стереотипы о том, что деменция влияет только на пожилых людей и что единственным ее симптомом является потеря памяти. Проект был построен под руководством реальных людей с различными формами заболевания и исследует эмоциональные и психологические проблемы, с которыми они сталкиваются, когда пытаются ориентироваться в повседневной среде.
2. Национальное общество аутистов. «Слишком много информации»
Национальное общество аутистов создало виртуальное приложение, чтобы позволить покупателям торгового центра Intu увидеть помещение центра с позиции аутичного ребенка. Приложение воспроизводит опыт сенсорной перегрузки, который часто испытывают люди с расстройствами аутического спектра, когда находятся в оживленном месте, например, в торговом центре.
3. «Гринпис России». «Путешествие в край оленей и нефти»
С помощью виртуальной реальности сообщество Гринпис создало в 2017 году короткометражный социальный фильм «Путешествие в край оленей и нефти» в формате 360 градусов, который демонстрирует последствия нефтяной добычи, разрушающей экосистему Сибири.
4. «Обнаженные сердца». Фильм «История Аркаши»
С помощью виртуальной реальности зрители фильма оказались на инклюзивной детской площадке, в учебном классе и комнате сенсорной интеграции. Цель фильма: показать, как фонд работает в регионах России на примере Нижнего Новгорода.
5. «ОВД-Инфо». Чат-бот в Telegram
Правовой чат-бот, который помогает задержанным. Бот предоставляет интерактивную инструкцию и советует, как вести себя в случае задержания. Советы оформлены в несколько предложений, а к цитатам прикрепляются ссылки на законы. Также в боте есть две кнопки: «протестировать» и «меня задержали».
6. Экология. Чат-бот Open Recycle Bot
Open Recycle Bot на нейронной сети разработали в Петербурге при поддержки «Теплицы». Цель: облегчить раздельный сбор мусора. Пользователь может отправить в чат фото мусора, а бот оперативно подскажет возможность переработки продукта и ближайший пункт приема вторсырья.
8. Royal Trinity Hospice. Виртуальный тур по хоспису
Старейший хоспис Англии вместе с Flix Films сделал виртуальный тур, чтобы познакомить пациентов и их семьи с реальной обстановкой в медучреждении. Цель тура — показать аудитории, что жизнь здесь может быть комфортной. Это не первый совместный опыт работы хосписа и компании: ранее они запустили виртуальные туры по местам, где не успели побывать пациенты, например — на сафари или в Диснейленде.
Помогают собирать средства
1. Amnesty International. «Бомбардировка Алеппо»
Amnesty International оснастила своих фандрайзеров гарнитурами виртуальной реальности, которые содержали фотографии опустошенных улиц Алеппо. Благодаря акции ежемесячные подписки увеличились на 16%.
2. ВЭБ и электронный кошелек для фонда «Старость в радость»
В августе 2017 года Внешэкономбанк вместе с блокчейн-специалистами запустил электронный кошелек для фонда «Старость в радость», куда можно делать пожертвования даже в криптовалюте: первый благотворительный взнос составлял 1 эфир (около 16,5 тысяч рублей на 10.08.2017. — Прим.).
3. Фонд «Подари жизнь». Пожертвования в криптовалюте
Еще один криптовалютный кейс. В ноябре 2017 года фонд начал принимать пожертвования в криптовалюте через партнера Podari.Life в США. Система работает с биткоинами, лайткоинами и эфирами.
3. «Пользуясь случаем», «Sdelai.Org». Целевые пожертвования
Эти краудфандинговые платформы работают по принципу peer-to-peer fundraising («равный — равному»): когда собрать деньги может каждый. Пользователь должен зарегистрироваться на сайте, а затем выбрать событие и фонд, в который после окончания кампании перечислятся все средства.
4. Charry. Мобильное приложение для быстрых пожертвований
Сервис был запущен в ноябре 2017 года и представляет собой систему перевода средств на счет благотворительных фондов-партнеров в один клик. В приложении может зарегистрироваться любое НКО из России. Визуально выглядит как Google-карта, на которой в зависимости от локации отображаются фонды. У каждого НКО есть свой профиль с прикрепленными документами.
Amnesty International оснастила своих фандрайзеров гарнитурами виртуальной реальности, которые содержали фотографии опустошенных улиц Алеппо. Благодаря акции ежемесячные подписки увеличились на 16%.
2. ВЭБ и электронный кошелек для фонда «Старость в радость»
В августе 2017 года Внешэкономбанк вместе с блокчейн-специалистами запустил электронный кошелек для фонда «Старость в радость», куда можно делать пожертвования даже в криптовалюте: первый благотворительный взнос составлял 1 эфир (около 16,5 тысяч рублей на 10.08.2017. — Прим.).
3. Фонд «Подари жизнь». Пожертвования в криптовалюте
Еще один криптовалютный кейс. В ноябре 2017 года фонд начал принимать пожертвования в криптовалюте через партнера Podari.Life в США. Система работает с биткоинами, лайткоинами и эфирами.
3. «Пользуясь случаем», «Sdelai.Org». Целевые пожертвования
Эти краудфандинговые платформы работают по принципу peer-to-peer fundraising («равный — равному»): когда собрать деньги может каждый. Пользователь должен зарегистрироваться на сайте, а затем выбрать событие и фонд, в который после окончания кампании перечислятся все средства.
4. Charry. Мобильное приложение для быстрых пожертвований
Сервис был запущен в ноябре 2017 года и представляет собой систему перевода средств на счет благотворительных фондов-партнеров в один клик. В приложении может зарегистрироваться любое НКО из России. Визуально выглядит как Google-карта, на которой в зависимости от локации отображаются фонды. У каждого НКО есть свой профиль с прикрепленными документами.
Участвуют в жизни людей
1. «Искусство вслух». Приложение адаптирует фильмы и спектакли для незрячих и слабовидящих
Было презентовано в 2017 году. Позволяет слабовидящим людям смотреть фильмы или театральные постановки без специального оборудования. Все, что нужно для работы приложения, это доступ к интернету и наушники. Дизайн и шрифт были согласованы с Всероссийским обществом слепых, которое также принимало участие в тестировании и разработке.
2. Una Wheel. Электропривод для инвалидных кресел
Компактная приставка-колесо к инвалидной коляске, которая добавляет ей маневренности. Подходит для большинства колясок активного типа и монтируется, по уверениям разработчиков, за 30 секунд.
3. «Штурман». Приложение для координации незрячих
Придумано белорусскими разработчиками. Соединяет незрячего человека и волонтера, который готов подсказать через видеосвязь дорогу или прочитать что-то (например, надпись на этикетке). Коммуникация между незрячим и зрячим собеседниками идет через специальное приложение.
4. Eyegaze Edge. Устройство, которое позволяет управлять компьютером движением глаз
Разработано компанией LC Technologies. Представляет собой миниатюрную камеру, которую прикрепляют снизу планшета. Камера измеряет расстояние между центром зрачка и прозрачной передней поверхностью глаза. Это расстояние меняется вместе с движением глаз, что дает компьютеру возможность точно понять, куда именно смотрит человек.
5. HeadMouse Nano. Камера, которая позволяет управлять компьютером
Придумана техасскими разработчиками и функционирует по принципу, схожему с предыдущим устройством. Веб-камера отслеживает движения с определенной точки лица (нос, рот, глаза). А выделить нужный текст можно с помощью специального переключателя, закрепленного во рту, или задержав голову в определенной позиции.
6. Контрастные клавиатуры и Bixby Vision для телефонов
Новые смартфоны компании Samsung оснащены специальными возможностями для незрячих и слабослышащих людей: здесь есть три вида контрастных клавиатур и голосовой помощник. Телефоны также фиксируют важные звуки, например, детский плач, и подают специальный сигнал в виде вибрации или визуальной картинки на экране. Также в смартфонах есть программа Bixby Vision, которая позволяет понять, какие предметы находятся рядом.
7. Relumino. Приложение для помощи незрячим людям
Было придумано и разработано в креативной лаборатории Samsung C-Lab. Работает вместе с очками виртуальной реальности. Устройство делает картинку, регулировать ее яркость и контраст, менять цвет.
8. Dot. Smart-часы для незрячих
Стартаперы из Южной Кореи придумали часы, текст на которых выводится шрифтом Брайля. Устройство синхронизируется со смартфоном, благодаря чему любая информация со смартфона выводится на экран часов шрифтом, и позволяет владельцу общаться в мессенджерах и листать страницы в браузере.
9. MouthStick Stylus. Девайс для самостоятельного управления компьютером
Американская компания Griffin разработала устройство, которое представляет собой длинную алюминиевую палку – ее нужно захватывать ртом. На другом конце устройства – насадка, которая имитирует прикосновение пальца к экрану.
10. SmartVP: видеотелефон для слабослышащих
Придуманный американской компанией видеотелефон облегчает разговор на языке жестов. Камера, которую крепят к телевизору или компьютеру, снимает видео в HD-формате и показывает его собеседнику, также девайс позволяет совместно смотреть видео на YouTube и в библиотеке фильмов.
Было презентовано в 2017 году. Позволяет слабовидящим людям смотреть фильмы или театральные постановки без специального оборудования. Все, что нужно для работы приложения, это доступ к интернету и наушники. Дизайн и шрифт были согласованы с Всероссийским обществом слепых, которое также принимало участие в тестировании и разработке.
2. Una Wheel. Электропривод для инвалидных кресел
Компактная приставка-колесо к инвалидной коляске, которая добавляет ей маневренности. Подходит для большинства колясок активного типа и монтируется, по уверениям разработчиков, за 30 секунд.
3. «Штурман». Приложение для координации незрячих
Придумано белорусскими разработчиками. Соединяет незрячего человека и волонтера, который готов подсказать через видеосвязь дорогу или прочитать что-то (например, надпись на этикетке). Коммуникация между незрячим и зрячим собеседниками идет через специальное приложение.
4. Eyegaze Edge. Устройство, которое позволяет управлять компьютером движением глаз
Разработано компанией LC Technologies. Представляет собой миниатюрную камеру, которую прикрепляют снизу планшета. Камера измеряет расстояние между центром зрачка и прозрачной передней поверхностью глаза. Это расстояние меняется вместе с движением глаз, что дает компьютеру возможность точно понять, куда именно смотрит человек.
5. HeadMouse Nano. Камера, которая позволяет управлять компьютером
Придумана техасскими разработчиками и функционирует по принципу, схожему с предыдущим устройством. Веб-камера отслеживает движения с определенной точки лица (нос, рот, глаза). А выделить нужный текст можно с помощью специального переключателя, закрепленного во рту, или задержав голову в определенной позиции.
6. Контрастные клавиатуры и Bixby Vision для телефонов
Новые смартфоны компании Samsung оснащены специальными возможностями для незрячих и слабослышащих людей: здесь есть три вида контрастных клавиатур и голосовой помощник. Телефоны также фиксируют важные звуки, например, детский плач, и подают специальный сигнал в виде вибрации или визуальной картинки на экране. Также в смартфонах есть программа Bixby Vision, которая позволяет понять, какие предметы находятся рядом.
7. Relumino. Приложение для помощи незрячим людям
Было придумано и разработано в креативной лаборатории Samsung C-Lab. Работает вместе с очками виртуальной реальности. Устройство делает картинку, регулировать ее яркость и контраст, менять цвет.
8. Dot. Smart-часы для незрячих
Стартаперы из Южной Кореи придумали часы, текст на которых выводится шрифтом Брайля. Устройство синхронизируется со смартфоном, благодаря чему любая информация со смартфона выводится на экран часов шрифтом, и позволяет владельцу общаться в мессенджерах и листать страницы в браузере.
9. MouthStick Stylus. Девайс для самостоятельного управления компьютером
Американская компания Griffin разработала устройство, которое представляет собой длинную алюминиевую палку – ее нужно захватывать ртом. На другом конце устройства – насадка, которая имитирует прикосновение пальца к экрану.
10. SmartVP: видеотелефон для слабослышащих
Придуманный американской компанией видеотелефон облегчает разговор на языке жестов. Камера, которую крепят к телевизору или компьютеру, снимает видео в HD-формате и показывает его собеседнику, также девайс позволяет совместно смотреть видео на YouTube и в библиотеке фильмов.
Беспилотники для НКО: рассказывает Ярослав Федосеев, пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС»
«В основном НКО используют беспилотники для гуманитарной помощи и в экологическом мониторинге. Их активно применяют везде: от доставки лекарств в странах Африки до спасения китов на океанских отмелях и поиска пропавших людей в джунглях Южной Америки. Например, Zipline в Руанде поставляет кровь для переливаний и медикаменты в больницы в сезон муссонов, когда дороги размыты и не пригодны для транспорта. Zipline полгода согласовывала с Управлением гражданской авиации Руанды полеты и интеграцию дронов в систему контроля воздушного трафика страны.
Red Line развивает дрон-порты в Африке. Грузовые дроны летают в изолированные поселения и спасают жизни. Кроме того, дроны особенно хорошо подходят для модели, в которой доставкой лекарств занимаются сами местные жители, что может обеспечить им дополнительную занятость и доход. Например, медработники BRAC зарабатывают с маржи по продаже антигельминтных и противомалярийных лекарств и контрацептивов. В США в рамках эксперимента Field Innovation Team беспилотник с корабля смог перевезти хрупкие медикаменты и колбы с биопробами на побережье Нью-Джерси.
Другое направление использования дронов — экомониторинг. Так, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США получает дроны от НКО Oceans Unmanned. Ее цель — нивелировать вмешательство людей в жизнь океанов, используя технологии. Дроны помогают спасать китов, попавших в сети или на отмель. Благодаря беспилотникам кита можно рассмотреть с высоты, понять, какие приспособления нужны и как лучше действовать с запутавшимся животным. Когда спасатели подплывают к киту, им остается лишь освободить его.
WWF уже несколько лет мониторит дронами лесохозяйственные мероприятия, а отряд волонтеров «Поиск пропавших детей — Красноярск» приобрел дрон, который ищет пропавших людей на больших территориях — в полях и на пустырях. НКО «Лиза Алерт» также начала использовать дроны после того, как осенью 2014 года российский ученый Алексей Червоненкис потерялся на территории лесопарка «Лосиный остров». Замерзшее тело ученого обнаружили спустя сутки вертолеты МЧС, а волонтеры «Лиза Алерт» неоднократно проходили мимо места, где находился мужчина, но не смогли его обнаружить.
Red Line развивает дрон-порты в Африке. Грузовые дроны летают в изолированные поселения и спасают жизни. Кроме того, дроны особенно хорошо подходят для модели, в которой доставкой лекарств занимаются сами местные жители, что может обеспечить им дополнительную занятость и доход. Например, медработники BRAC зарабатывают с маржи по продаже антигельминтных и противомалярийных лекарств и контрацептивов. В США в рамках эксперимента Field Innovation Team беспилотник с корабля смог перевезти хрупкие медикаменты и колбы с биопробами на побережье Нью-Джерси.
Другое направление использования дронов — экомониторинг. Так, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США получает дроны от НКО Oceans Unmanned. Ее цель — нивелировать вмешательство людей в жизнь океанов, используя технологии. Дроны помогают спасать китов, попавших в сети или на отмель. Благодаря беспилотникам кита можно рассмотреть с высоты, понять, какие приспособления нужны и как лучше действовать с запутавшимся животным. Когда спасатели подплывают к киту, им остается лишь освободить его.
WWF уже несколько лет мониторит дронами лесохозяйственные мероприятия, а отряд волонтеров «Поиск пропавших детей — Красноярск» приобрел дрон, который ищет пропавших людей на больших территориях — в полях и на пустырях. НКО «Лиза Алерт» также начала использовать дроны после того, как осенью 2014 года российский ученый Алексей Червоненкис потерялся на территории лесопарка «Лосиный остров». Замерзшее тело ученого обнаружили спустя сутки вертолеты МЧС, а волонтеры «Лиза Алерт» неоднократно проходили мимо места, где находился мужчина, но не смогли его обнаружить.
Материалы по теме:
Куда податься: акселераторы со всего мира, открытые для российских социальных стартапов
Футбольная академия, сурдо-приложение, цирк для подростков и благотворительный магазин — лучшие социальные проекты года
Росбанк запустил конкурсную программу для социальных предпринимателей
Краудфандинг в действии: лайфхаки от автора пяти проектов
Куда податься: акселераторы со всего мира, открытые для российских социальных стартапов
Футбольная академия, сурдо-приложение, цирк для подростков и благотворительный магазин — лучшие социальные проекты года
Росбанк запустил конкурсную программу для социальных предпринимателей
Краудфандинг в действии: лайфхаки от автора пяти проектов
Текст: Екатерина Гаранина
Фото: страница фонда «ВКонтакте». Обложка: «Арифметика добра». В тексте использованы иллюстрации Giphy.
Фото: страница фонда «ВКонтакте». Обложка: «Арифметика добра». В тексте использованы иллюстрации Giphy.

